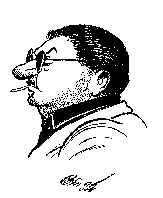 Евгений Васильевич ПОПОВ – актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Окончил театральную студию при Русском театре драмы (ныне Государственный русский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова) и, начиная с 1944 года, практически до последнего дня работал в его коллективе. Более полувека отдал сцене этот замечательный актер, сыграв на ней в 150 постановках и снявшись в 49 киноролях. Герои, которых он исполнял в театре, запомнились зрителям нескольких поколений. Это Николай Иванович Трилецкий в чеховском «Платонове», Митька Валеев в «Наследниках» Н. Анова, дядя Васа в «Госпоже министерше» Б. Нушича, Одоевский в «Поручике Лермонтове» К. Паустовского, Освальд, дворецкий Гонерильи в шекспировском «Короле Лире», Лэрри – «Да поможет мне Бог!» Ф. Джексона, Яков Бардин – «Враги» М. Горького, Дергачев- «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова, Исидор Джакели – «Не беспокойся, мама!» Н. Думбадзе, Курмангазы – «Надежда горит впереди» Н. Анова и М. Сулимова, Максим Петров в «Традиционном сборе» В. Розова, Брюхатый (Семеныч) в «Энергичных людях» В. Шукшина, Рамон в «Третьей молодости» братьев Тур, Князь в «Тифлисских свадьбах» А. Цагарели, Степан в «Поминальной молитве» В. Горина, Огородников в «Кабанчике» В. Розова, Чебутыкин в чеховских «Трех сестрах» и другие. Евгений Васильевич ПОПОВ – актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Окончил театральную студию при Русском театре драмы (ныне Государственный русский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова) и, начиная с 1944 года, практически до последнего дня работал в его коллективе. Более полувека отдал сцене этот замечательный актер, сыграв на ней в 150 постановках и снявшись в 49 киноролях. Герои, которых он исполнял в театре, запомнились зрителям нескольких поколений. Это Николай Иванович Трилецкий в чеховском «Платонове», Митька Валеев в «Наследниках» Н. Анова, дядя Васа в «Госпоже министерше» Б. Нушича, Одоевский в «Поручике Лермонтове» К. Паустовского, Освальд, дворецкий Гонерильи в шекспировском «Короле Лире», Лэрри – «Да поможет мне Бог!» Ф. Джексона, Яков Бардин – «Враги» М. Горького, Дергачев- «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова, Исидор Джакели – «Не беспокойся, мама!» Н. Думбадзе, Курмангазы – «Надежда горит впереди» Н. Анова и М. Сулимова, Максим Петров в «Традиционном сборе» В. Розова, Брюхатый (Семеныч) в «Энергичных людях» В. Шукшина, Рамон в «Третьей молодости» братьев Тур, Князь в «Тифлисских свадьбах» А. Цагарели, Степан в «Поминальной молитве» В. Горина, Огородников в «Кабанчике» В. Розова, Чебутыкин в чеховских «Трех сестрах» и другие.
Заслуженный артист республики Евгений ПОПОВ (1928-1997) был ведущим актером Государственного русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова и считался ветераном казахстанского кино. Это интервью с уклоном в кинематографию он дал незадолго до своей кончины. Мы встретились у него дома, на его гостеприимной кухне, и на вопрос об особо памятных ролях Евгений Васильевич отвечал так.
– Памятные роли? Да как вам сказать? Попробуйте спросить мать, какой ребенок ей дороже? Дороги все одинаково и каждый в отдельности. По-моему, иначе не бывает.
Спора нет – Евгений Васильевич прав. И правота его основана на опыте. За полвека актерской работы им создано 150 театральных и 49 экранных ролей, каждая из которых принесла ему немало хлопот и волнений. Они, эти волнения и хлопоты, составляли смысл его жизни. И всегда были рядом люди, которые поддерживали это святое горение искусством.
— Очень многих людей играл я в своей жизни, — продолжает Евгений Васильевич, — старых и молодых, рыцарей совести и отпетых мерзавцев, хулиганов и чекистов, шпионов и офицеров Советской Армии, политических авантюристов и верующих в торжество разума, персонажей из прошлых веков и наших современников… Словом, как принято говорить, галерея портретов. Некоторое представление об этом множестве дает коллаж, составленный моим другом Сережей Панковым из фотографий разных лет и подаренный мне на день рождения.
— О, да это целый калейдоскоп очень ярких и выразительных персонажей!
— Да, а на самом деле это я один в разных перевоплощениях.
— Кого же здесь только нет – работяги и колхозники, представители байского сословия, моряки, белогвардейские генералы, защитники революции…
— И, конечно же, как видишь, милиционеры. За то, что я неоднократно играл их, друзья присвоили мне звание «почетного милиционера Алма-Аты». Или вот мой Князь из «Ханумы», а это я завскладом. Тут кинопробы на какой-то фильм, дальше опять милиционер – в «Нашем милом докторе». Здесь на коне мой герой из фильма «Тревожное утро», где я упал с лошади и сломал руку. Я был уверен, что режиссер картины Абдулла Карсакбаев снимет меня с роли. Нет. Отлежался, и опять на площадку. Правда, работать было трудно, несколько раз даже сознание терял в седле. Но тогда еще кавалерийская закваска выручала, обошелся без дублеров. Фильм этот снимали в пограничных районах Казахстана, где в 1918-м году действовал отряд чекистов. Герой мой — Кострома в оправдание текста должен всего раз за картину снять фуражку и показать бритую голову. Так из-за этой одной фразы меня прямо в полевых условиях побрили опасной бритвой! Ну, мужчины, конечно, представляют, что значит бороду соскоблить тупой бритвой. А если такую, как у меня была, шевелюру с головы! Вообще, в кино мне и гореть приходилось, и ребра ломал. Всякое бывало. Но это потом, а сначала – и всегда! – был театр…
– … куда ты пришел, насколько мне известно, заводским мальчишкой?
– Да, я работал на заводе имени Кирова токарем-револьверщиком. И где-то в году 1943-м появился у нас тогда еще студент, а в будущем известный кинорежиссер Борис Кимягаров. Он вел у нас кружок. И я после двенадцатичасовой смены приходил на читки и репетиции, чего-то там делал, и однажды мне даже посчастливилось с нашей концертной бригадой выступить на сцене оперного театра со всеми театральными и кинознаменитостями – они были эвакуированы сюда, в Алма-Ату. А год спустя главный режиссер Русского республиканского драматического театра Штейн организовал при театре актерскую студию, и еще год без отрыва от производства я ходил туда. Затем по ходатайству театра дирекция завода откомандировала меня в распоряжение русской труппы, и вот уже более полувека, как я работаю в ней. Чуть позже я был призван в армию, служил здесь же, в Алма-Ате, в погранвойсках кавалеристом и по возможности был занят в репертуаре.
– Насколько я понимаю, ты попал в театр в момент расцвета нашего сценического искусства. И сразу же под крыло такого мастера, как Яков Соломонович Штейн.
– Ты знаешь, я даже слов не нахожу, чтобы выразить, насколько это был потрясающий и легендарный человек! Великолепный режиссер, умный, тонкий педагог, он стал крестным отцом всем нам, студийцам. И хотя только я один из нашего выпуска остался насовсем в театре, он заложил фундамент, дал путевку в жизнь буквально каждому. Возьмите хотя бы доктора медицины Галину Плотникову, известного живописца Валентина Ткаченко (мы вместе пришли с завода), талантливого композитора Всеволода Булгаровского, лучшего в республике гримера Виктора Щербакова, писателя и драматурга Дмитрия Трухина — ведь все стали людьми. Хорошими, стоящими людьми. Помню, мы с Севой Булгаровским выпускали юмористическую газету «Носорог». А Штейн, надо сказать, всегда с виду импозантный, ходил в шляпе и с палкой. Палку эту для интереса сделал я из ствола новогодней елки. Сам обстругал, обжег на плитке, Штейну она понравилась, и он буквально отобрал ее у меня. Так вот, мы нарисовали эту суковатую палку, а на ней шляпу в виде гнезда. В гнезде изобразили этаких смешных крикливых птенчиков и все это снабдили надписью: «… И желторотые птенцы седого ястреба Я. Штейна». Все с удовольствием приняли нашу шутку, потому что она абсолютно соответствовала истине. Мы ведь действительно пришли к нему неопытными, беспомощными детьми, и он учил нас летать. Он пригласил преподавать нам таких замечательных знатоков литературы и театра, как Юрий Осипович Домбровский, твой папа Лев Игнатьевич Варшавский, мастер по гриму Сергей Иванович Гуськов, профессор Московского института художественного слова Василий Константинович Сережников. Тот самый Сережников, к которому с благоговением относились Качалов и Москвин, и он вел у нас технику речи! Может, оттого мы до сих пор бережем слово, а ведь с этим делом, что греха таить, в сегодняшнем театре просто катастрофа. Съедаются звуки, заглатываются слова. Помню, был у нас актер, который, сколько бы он сам ни упражнялся, говорил так: «С любовью не футят, как с бурей футить нельзя». А после нескольких уроков Сережникова он стал говорить по-человечески. Вот такие были у меня учителя. А сам Штейн! Этот мэтр, недосягаемый для нас в своей эрудиции и понимании искусства человек умел находить с нами общий язык, умел любить нас. Например, все знали, что он не переносил официальных визитов начальства, так называемых инспекторских проверок. И как только в театре разносился слух, что кто-то к нам жалует сверху, он протискивался в нашу общую гримерку, садился не на стул, а на знаменитую свою палку и, не раздеваясь, весь вечер проводил с нами в так называемом «шестом кубрике». Был он взыскателен и требователен, но умел из нашей жизни делать праздник. Например, часть репетиций «Порт-Артура» мы провели на берегу Иртыша во время гастролей, по пути ловя рыбу и наслаждаясь ухой. Или однажды, когда нас пригласили на новогодний вечер в мое погранучилище и уже к утру все сморились, кто-то попросил его поднять всем настроение. «Пожалуйста, — сказал Яков Соломонович, — объявите: Штейн на брусьях!», и тут же повис на брусьях, вызвав взрыв восхищенного хохота.
Яков Соломонович часто рисковал, доверяя нам. Так неожиданно он ввел меня с полутора репетиций на Швандю в «Любови Яровой», когда оба исполнителя – Диордиев и Ерошевский заболели. Меня как раз из училища отпустили в увольнение. Штейн подошел ко мне и говорит: «Ну вот, солдат, или грудь в крестах, или голова в кустах». В общем, я вышел на сцену, и первая фраза у меня была: «И как отрубило!». Но волновался я так, что буквально остолбенел, стою и молчу. Минуту, две, вечность. Лишь краем глаза вижу, как Штейн за кулисами схватился за голову. Думал, потеряю сознание, пока кто-то не подал мало-мальски подходящую реплику. Робко, медленно пошел-пошел… Думаете, Штейн ругал меня в антракте? Нет, он пришел после спектакля, о провале не проронил ни слова, лишь отрывисто: «Вот так подряд еще сыграешь три спектакля, будешь с основными исполнителями в очередь играть». Повернулся и ушел. Представляете! И действительно, потом я играл в очередь. Не потому, что ах как показался в дебюте, просто вовремя выручил и, наверное, не очень оплошал. Вот какой это был педагог. Ну, а те эксперименты, которые он проводил с Объединенным русско-казахским театром, когда в «Иване Грозном» Марию Темрюковну играла в нашем спектакле блистательная Букеева, а Михаила Темрюковича – Жолумбетов! А «Кобланды», который он поставил одновременно с той и другой труппой, с одними и теми же декорациями и костюмами и общей массовкой! Когда там Кобланды – Айманов, у нас – Чепурнов, там – Букеева, у нас – Харламова, там – Кожамкулов, у нас – Азовский, там – Огузбаев, у нас – Сериков и так далее. Я даже несколько раз сыграл Кастаулети в «Кобланды» на казахском языке. Или «Порт-Артур», «Мы здесь живем», где одновременно играли и казахские, и русские актеры! А теперь мы, видите ли, все маемся, выискиваем какие-то способы, как сотворить дружбу. Не достаточно ли просто вспомнить время, когда мы не набивались друг другу в друзья, мы просто дружили?
– И в этой дружбе, вероятно, происходило то самое проникновение культур, о котором мы сегодня столько говорим?
– А как же! Вот я готовился, к примеру, играть Курмангазы на нашей сцене. А материала с гулькин нос. Наконец, мне кто-то подсказал, что Капан Бадыров тоже из рода адай и лучше других знает прошлые времена. И действительно, Капан Уралович, несмотря на свою загруженность, занялся моим героем. Мы с ним перепробовали несколько десятков костюмов, головных уборов, прикидывали осанку, манеру разговора. В результате спектакль, который четырежды отвергали, был все-таки принят, и кончилось все дипломом Первой степени. А потом, уже одно то, что мы видели, как работают такие самородки, как Куанышпаев, Кожамкулов, Айманов, Майканова, Римова, — разве это не учеба? Мальчишкой смотрел я фильм «Амангельды», и вдруг в театре глядь – идет живой Амангельды, то есть артист Умурзаков. Товарищи! Рот мой не закрывался. И когда потом Шакен Кенжетаевич предложил Дзигану взять меня на крошечную роль в «Джамбуле», я счел это за счастье.
– С этого фильма как будто и началась твоя биография в кино?
– Да. Там у меня была небольшая роль. Небольшая, как и во многих других картинах, потому что руководство нашего театра (до сих пор, кстати) не любит отпускать актеров на съемки. Получается, что с кино сталкиваешься какими-то урывками. А для значительной роли нужен большой срок. Вот и выходит, что не по своей вине не додал я кинематографу. Спасибо опять-таки Штейну – он отпустил меня как-то в Кокчетав на пять месяцев, и в фильме «Мы здесь живем» у меня довольно внушительная работа. С этой целинной кинолентой я стал сниматься у Шакена Айманова. За ней были «Наш милый доктор», «Дорога жизни», «Песня зовет», «Перекресток».
– Ты с ним дружил?
– Ну, «дружил» – это слишком громкое слово, потому что нас разделяло и возрастное расстояние, и мое уважительное отношение к нему. Хотя не скрываю, Шакен Кенжетаевич относился ко мне нежно и благосклонно. Мне очень горько, что его уже нет, потому что я бы с удовольствием еще и еще работал под его началом. Это был человек, который, казалось, сам не понимал, насколько он талантлив. Или, скорее всего, не обращал на это внимания. Меня, например, часто спрашивают: «Как вы делали с ним вашего милиционера в «Милом докторе»? А я не знаю. Он никому ничего особенно не навязывал. В первую очередь ведь он актер, а потом уж режиссер. И как актер он какой-нибудь пустячок так покажет, что невольно чувствуешь всю тщетность своих потуг. Как же это, мол, я сам до такого не додумался? Даже обидно. Так он ярко и изобретательно все сделает, что это как толчок. А как оттолкнулся, так и иди. Потом, всегда какая-то особенная атмосфера существовала у него на площадке, будто мы все равны. Именно так, хотя я-то понимал, что есть он — режиссер, уважаемый всеми директор картины Лелюх, есть большой мастер-оператор Беркович, с которым они много и плодотворно работали. Амикошонства, панибратства типа «Ну, что, брат Толстой, все еще пишешь?» между нами не было. Просто была одна семья. Мы могли с ним запросто играть в шахматы, в какие-то другие игры или устроить вдруг импровизированный оркестр. Айманов любил все эти вещи, он отлично играл на мандолине, гитаре, домбре. Бывало, берем – я гитару, он домбру и что-то поем, сочиняя на ходу что-нибудь смешное. И никто не унывал, хотя в тот 1956-й год в Кокчетавской области март был холодным и неуютным, съемки были не из легких. А уж когда возникал дуэт Айманов – Беркович, изобретательству и шуткам не было конца. Тут было чему поучиться. И еще у Шакена Кенжетаевича была одна особенность. Он не очень увлекался «варягами», то есть приглашенными артистами. Чаще старался обойтись собственными силами, из местных. Но это не мешало его общительному нраву, дружбе, скажем, с москвичами. В его гостеприимном доме в те поры не выводились люди. Как-то на встрече со зрителями меня спросили, есть ли сегодня богема в мире искусства? Так вот у Айманова была богема. Но какая! Потрясающе интересная. Тут можно было встретить самых разных, как правило, талантливых людей. Например, Николая Рыбникова, Аллу Ларионову, которые с огромным уважением относились к Шакену Кенжетаевичу как к человеку, к личности, к актеру. Мне часто приходилось присутствовать при этом, и я счастлив, что «варился» там.
– Вы оба играли знаменитого героя казахских сказок Алдара Косе. Ты – на радио в передаче «На колючей волне» на протяжении двадцати лет, Айманов – в фильме «Безбородый обманщик». Как вы воспринимали это соперничество?
– По задумке работников радио я значился аксакалом сатиры и юмора. И когда я узнал, что Айманов будет играть БЕЗБОРОДОГО Алдара, я заблудился. Как-то на студии я решил выяснить у него, что же это за Алдар без бороды? И вообще, какой он должен быть? «Всякий, – ответил Айманов. – У каждого человека – свой Алдар». «Ну, что ж, – сказал я, – посмотрим, у кого лучше получится». На что Шакен Кенжетаевич, конечно, рассмеялся.
– С кем еще из режиссеров тебе интересно было работать?
– Я очень привязался к Абдулле Карсакбаеву. Успел сняться у него в двух фильмах – «Тревожное утро» и «Соленая река детства». И очень жалею, что судьба отпустила нам такой малый срок на сотрудничество. Хорошим было мое знакомство со старейшим казахским режиссером Эмиром Файком в картине «Мальчик мой». Опять-таки я был там милиционером. Файк собрал замечательную группу – Константин Сорокин, Рая Мухамедьярова, Мухтар Бахтыгереев, всеобщая любимица Рахия Койшибаева. К сожалению, Рахия рано умерла, а какая колоритная, самобытная это была актриса! Такой нет больше, и вряд ли уже будет. Она из тех, кто не заменим, как незаменим, положим, Аркадий Райкин, как незаменимы наши «старики». Потому что они рождаются в единственном экземпляре. Не могу не вспомнить я и Александра Карпова, его фильм «Дорога в тысячу верст», который постигла непонятно почему печальная судьба. Недавно его сняли с полки, и сколько я ни всматривался в него, криминала в нем не нашел. По-моему, нормальная профессиональная работа. В Киргизии мне довелось сниматься у Мелиса Убукеева. Очень милый, сердечный человек. Когда он узнал, что я никогда не видел Иссык-Куля, он специально вызвал меня на съемки, поселил на берегу в прекрасном пансионате. И теперь я спокоен, потому что, как поется в песне, опустил ладони в священные воды этого красавца-озера.
– А молодые режиссеры? Какие у тебя сложились отношения с ними?
– Снимался я у них достаточно много, но не успел на зуб попробовать, что это такое. Всякий раз все делалось так мимолетно, громко, быстро, что я не успевал во все вникнуть. А на последней картине «Балкон», которая, кстати, снималась именно под моим балконом, меня вызвали для участия в ней прямо в три часа ночи. Режиссер запечатлел буквально один дубль и спросил: «Еще дубль вам нужен?». Я спросил его тоже: «Как? Мне?». «Да, вам – нужен? Нам с оператором достаточно одного». – «Ну, а мне тем более». И, памятуя о том, что о кино и его деятелях говорить что-либо лишнее не резон, иначе могут больше не пригласить, я решил не давать оценки случившемуся. Мне должно быть приятно работать со всеми, кому я нужен, будь это даже вьюжной зимней ночью или днем, в сорокоградусную жару. Тем более, что нет-нет да встретишься на площадке с таким, скажем, мастером, как Валентин Никулин или Евгений Жариков. Это ли не прекрасно?
– Понятно. Но не значит ли, что это твое пиететное отношение к кинематографу продиктовано страхом остаться в нем без работы?
– Нет, просто я считаю, что драматическому актеру не грех как можно чаще сниматься. Хотя кино и не очень балует нашего брата, дело это для нас весьма и весьма полезное. Почему? Да потому, что искусство экрана не разрешает сфальшивить, спрятаться за декорацией, костюмом, паузой, а, следовательно, дисциплинирует. Попробуй, как в театре, растянуть сцену на полчаса, когда над твоим ухом стоит тот же Айманов и твердит: «Метраж, метраж, метраж! Делай в десять раз быстрее, крутись!». Это тоже ведь своего рода тренинг. Ну, и, конечно, идет обогащение за счет нового, незнакомого тебе материала.
– Ты нередко снимался в эпизодах. Существует мнение, что актер эпизода партнеров не имеет, поэтому речь о партнерстве не может вестись всерьез. Так ли это?
– Что значит – не имеет партнеров? Существует же рядом кто-то, с кем ты разговариваешь, как-то общаешься. В театре, как правило, партнеров ставят плечом к плечу и лицом к зрительному залу. Пожалуйста – общайтесь! А Штейн нас учил смотреть в глаза. Кино в этом смысле ближе к его науке. Вот у меня был эпизод с Сорокиным — актером, я считаю, экстра-класса. Я играл милиционера, а он спекулянта. И когда мы столкнулись с ним на привокзальной площади, он вдруг как-то пополз глазом по моему милицейскому галстуку все выше и выше, потом добрался наконец до моих глаз. И когда я увидел его взгляд, то безудержно захохотал. И хохотал четыре дубля, да так, что он начал на меня сердиться: «Женя, перестань! Ты же срываешь съемку».
— Значит, в этот момент ты был для него плохим партнером?
— Ну, не знаю. Во всяком случае, расстались мы с ним мило. Он даже мне комплимент сказал – мол, ему приятно было со мной работать.
– И еще хрестоматийный журналистский вопрос. Где ты находишь материал для изображения своих героев?
– Отвечу так же хрестоматийно – в жизни. И ничуть не смущусь этим. А откуда же еще брать? Играем-то мы живых людей, сами тоже живые. Кто наблюдательней, впечатлительней, у того лучше и получается. И результат иногда невероятный. Как-то однажды Нина Ивановна Трофимова, жена боготворимого мной Штейна, умная и тонкая актриса сказала мне: «Женя, на вашем Гитлере я плакала». Это был огромный комплимент. А речь шла о пьесе Шатрова «Конец, или Последние десять дней ставки Гитлера», где мне поручили главную роль. Представляете, по телевидению идут «Семнадцать мгновений весны» с великолепным Дитцем в роли диктатора и с ними же – озеровское «Освобождение». Переплюнуть – дело невозможное. Что мне было делать? И пришла в голову такая мысль. Вот последние дни в бункере, когда все рухнуло, все сбежали и остались с Гитлером только Борман и Геббельс. Не будем говорить, какой он человек. Но он же человек, и у него та же, как у всех у нас, печенка, та же селезенка! И когда он, уже, в общем-то, очень больной физически человек, доживал свое на допингах и когда вместе с этим внутри него шел страшный разрушительный процесс политической агонии, как он мог выглядеть? Я представил себе воочию весь ужас этой терпящей фиаско разлагающейся натуры. И я его в этом жутком обличии, что называется, очеловечил. Да, если хочешь, именно очеловечил, в чем, вероятно, не проиграл, потому что отклики на представленного мною Гитлера были достаточно для меня высокими. И именно от этой основы, то есть, от человеческого я исходил и исхожу всегда в своих театральных работах. Ну, и, конечно же, в кино. Так подсказывает мне мое искусство, мое ремесло. И нет святее ремесла.
1979 год.
|

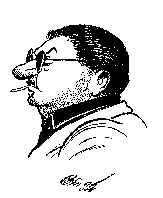 Евгений Васильевич ПОПОВ – актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Окончил театральную студию при Русском театре драмы (ныне Государственный русский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова) и, начиная с 1944 года, практически до последнего дня работал в его коллективе. Более полувека отдал сцене этот замечательный актер, сыграв на ней в 150 постановках и снявшись в 49 киноролях. Герои, которых он исполнял в театре, запомнились зрителям нескольких поколений. Это Николай Иванович Трилецкий в чеховском «Платонове», Митька Валеев в «Наследниках» Н. Анова, дядя Васа в «Госпоже министерше» Б. Нушича, Одоевский в «Поручике Лермонтове» К. Паустовского, Освальд, дворецкий Гонерильи в шекспировском «Короле Лире», Лэрри – «Да поможет мне Бог!» Ф. Джексона, Яков Бардин – «Враги» М. Горького, Дергачев- «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова, Исидор Джакели – «Не беспокойся, мама!» Н. Думбадзе, Курмангазы – «Надежда горит впереди» Н. Анова и М. Сулимова, Максим Петров в «Традиционном сборе» В. Розова, Брюхатый (Семеныч) в «Энергичных людях» В. Шукшина, Рамон в «Третьей молодости» братьев Тур, Князь в «Тифлисских свадьбах» А. Цагарели, Степан в «Поминальной молитве» В. Горина, Огородников в «Кабанчике» В. Розова, Чебутыкин в чеховских «Трех сестрах» и другие.
Евгений Васильевич ПОПОВ – актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Окончил театральную студию при Русском театре драмы (ныне Государственный русский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова) и, начиная с 1944 года, практически до последнего дня работал в его коллективе. Более полувека отдал сцене этот замечательный актер, сыграв на ней в 150 постановках и снявшись в 49 киноролях. Герои, которых он исполнял в театре, запомнились зрителям нескольких поколений. Это Николай Иванович Трилецкий в чеховском «Платонове», Митька Валеев в «Наследниках» Н. Анова, дядя Васа в «Госпоже министерше» Б. Нушича, Одоевский в «Поручике Лермонтове» К. Паустовского, Освальд, дворецкий Гонерильи в шекспировском «Короле Лире», Лэрри – «Да поможет мне Бог!» Ф. Джексона, Яков Бардин – «Враги» М. Горького, Дергачев- «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова, Исидор Джакели – «Не беспокойся, мама!» Н. Думбадзе, Курмангазы – «Надежда горит впереди» Н. Анова и М. Сулимова, Максим Петров в «Традиционном сборе» В. Розова, Брюхатый (Семеныч) в «Энергичных людях» В. Шукшина, Рамон в «Третьей молодости» братьев Тур, Князь в «Тифлисских свадьбах» А. Цагарели, Степан в «Поминальной молитве» В. Горина, Огородников в «Кабанчике» В. Розова, Чебутыкин в чеховских «Трех сестрах» и другие.